Когда великий комбинатор доводил подпольного миллионера Корейко до финансового кризиса, он использовал тактику информационной атаки.
Например, отправлял бессмысленные телеграммы. Гражданину Корейко было от них тревожно.
Происходящее сегодня на российском финансовом рынке изрядно напоминает этот бессмертный сюжет. Начиная с октября информационный шум в этой сфере достиг такого апогея, в котором начал теряться всякий смысл. По крайне мере – на первый взгляд. На второй выясняется, что за этим шумом смысл все же угадывается. Для кого-то кризис стал оптимальной средой для реализации своих интересов, больших или маленьких – не суть.
Шумим, братцы, шумим…
Вспомним основные информационные вехи нынешней осени. Сначала – паника, заставившая многих россиян броситься в банки за своими депозитами. Впрочем, обвального характера этот процесс не принял. Видимо, сыграл свою роль «эффект отложенных ожиданий». О финансовом кризисе говорили более года и за это время у большинства соотечественников выработалось устойчивое ощущение, что кризис есть явление исключительно заграничное, к нам прямого отношение не имеющее. А «ладно ль за морем, иль худо» российскому частному лицу, по большому счету, по барабану.
О заработке в Телеграмм. Вопросы, ответы, аналитика, вот это всё.
Умиротворяющее действие оказало и весьма оперативное решение властей повысить размер депозитов, в случае дефолта банка покрываемых государственным Агентством по страхованию вкладов (АСВ) с 400 тыс. до 700 тыс. рублей. Народ немного успокоился, заодно уверившись, что в сегодняшней ситуации государство остается гарантом надежности и уверенности в завтрашнем дне.
Следующей информационной «фишкой» осени стало появление в Интернете многочисленных «черных списков» банков, которые «стоят на грани банкротства» или «которым денег не дадут». На какой-то момент пересылка этих «списков» друзьям и знакомым стало популярнее приветствий в «Одноклассниках» и виртуальных открыток.
История «использования темы кризиса» получила широкую известность. Несколько региональных топ-менеджеров Сбербанка активно обрабатывали клиентов на тему скорого банкротства частных банков. И хотя виновные были подвергнуты остракизму, в том числе и президентом Сбербанка Германом Грефом, свою роль эти «капиталоспасительные» беседы сыграли. Примерно как в старом анекдоте: «ложечки-то нашлись, а вот неприятный осадок остался».
Дай миллион!
О полной «бессмысленности» всех сплетен и мифов, озвученных этой осенью на финансовом рынке, говорить не приходиться. Уже упомянутый Бендер свои телеграммы рассылал не случайно. Он хотел отжать у гражданина Корейко миллион. Гражданин Корейко, натурально, миллион отдавать не хотел.
Ныне речь тоже идет о деньгах. Российские власти, дабы поддержать ликвидность банковской отрасли, выделили денег нескольким наиболее крупным российским банкам. Полагая, что те профинансируют средние, те – мелкие и будет всем счастье. Не случилось. Получившие казенный кошт «крупняки» делиться не желают. Вокруг ситуации ломаются копья, премьер-министр Владимир Путин грозит «зажилившим» гешефт пальцем и делает им «последнее предупреждение», но воз и ныне там. Дело дошло до того, что в середине ноября премьер собрал банкиров в Белом доме и прямо заявил, что крайне недоволен действиями банкиров: «у банков-получателей государственных средств на льготных условиях объем операций, связанных с переводом денег за границу, существенно вырос». По его мнению, «должно быть целевое использование выделяемых дополнительно средств, они должны работать по назначению на нашу экономику. Мы должны исключить любой корпоративный эгоизм, коррупцию и злоупотребления». В завершении Путин посулил, что проблемой займутся правоохранительные органы.
Трудно сказать, переломит ли премьерская «нотация» ситуацию или присяжные «врачеватели» российского банкинга постараются попридержать «лекарство» до того момента, когда большинству пациентов оно будет уже без пользы. Пока же вопрос о «справедливом» перераспределении потоков ликвидности по всей площадке банковского рынка остается открытым. И более чем животрепещущим. «Сегодня ситуация такова, что, скорее всего, о выживании малых и средних российских банков без контролируемой государством «аварийной» системы рефинансирования говорить не приходится», — полагает Николай Корчагин, вице-президент российской Ассоциации кредитных брокеров.
Впрочем, на сей счет звучат и иные мнения: денег малым банкам давать не надо.
«Кризис показал, что наша «суверенная банковская система» одна из самых слабых в мире, — отмечает Федор Наумов, аналитик управляющей компании «КапиталЪ». — Плюс процесса помощи банкам в том, что мы сохраняем банковскую систему (отстроить ее снова, если она сейчас упадёт, будет трудно). Минус же в том, что мы в который раз всем миром тратимся, чтобы спасти тех, кто этого не очень-то заслуживает, — как вкладчиков всех мелких банков, польстившихся на более высокие процентные ставки, так и многих банкиров, порождая новый moral hazard».
Маленьких обижают
Возникает и другой вариант решения проблемы голодной до денег банковской системы России. Если не удается увеличить размер ложки, можно уменьшить количество едоков. Власти реанимировали старую идею – повысить минимальный размер собственного капитала банков до 180 млн. рублей и тем самым очистить рынок от самых маленьких. Соответствующие поправки к федеральному закону «О банках и банковской деятельности» в скором времени должен рассмотреть парламент.
Банковское сообщество – резко против. Десять дней назад президент Ассоциации региональных банков России (АРБР) Анатолий Аксаков и президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направили председателю Центробанка Сергею Игнатьеву и министру финансов Алексею Кудрину совместное письмо, в котором говорится, что даже сам факт внесения в парламент этого проекта «способно оказать серьезное дестабилизирующее влияние как на банковскую систему, так и на клиентов банков».
Лидеры банковских «профсоюзов» напоминают, что сейчас в 13 регионах России вообще отсутствуют банки с размером собственных средств более 180 млн. рублей, а еще в 14 – лишь по одному такому банку».
По мнению АРБР и АРБ, малые и средние обеспечивают доступность финансовых услуг в регионах, занимаются кредитованием малого и среднего бизнеса, «занимают прочное положение на рынке, доказали свою экономическую эффективность и устойчивость к кризисным явлениям». Аксаков и Тосунян предлагают зайти с другого конца: не опускать шлагбаум на пути малых банков, а наоборот, облегчить им жизнь. В частности, упростить процедуры слияния банков, повысить привлекательность капитализации полученной банками прибыли (очевидно, за счет налоговых льгот), а заодно снизить «непрофильные издержки банковской деятельности», связанные с жесткой и громоздкой отчетностью по части исполнения кассовой дисциплины и «антиотмывочного» закона.
Бархатная национализация
Трудно сказать, насколько затруднительны сегодня процессы слияния, а вот процессы поглощения в условиях кризиса, напротив, получили прямо-таки второе дыхание. Первыми примерами стали банки «Глобэкс», «КИТ Финанс», Связьбанк и Собинбанк, которые приобрели госбанки. Аппетит, как известно, приходит во время еды. В течение последнего месяца, в России выстроилась оперативная технология поглощений. Запускает весь механизм АСВ, получившее права на санацию банка. Причем, как отметил шеф новоиспеченного департамента реструктуризации банков АСВ г-н Кузнецов, у АСВ есть право на «принудительное лечение» банков и, если Агентство столкнется с каким-то противодействием, «мы вынуждены будем применить именно такие процедуры».
Наиболее громкий свежий пример подобного действа – события в Петербурге, где АСВ занялось санацией банка ВЕФК – неформального лидера частных банков северной столицы. ВЕФК задержал выплату по некоторым своим обязательством и агентство занялось его санацией. В результате ВЕФК практически сменил собственника, им стал вездесущий ВТБ.
Формально говоря, АСВ вовсе не занимается переделом банковской собственности в пользу государства. Де-юре, в роли инвестора, который придет «спасать» тонущий банк, может быть любая финансовая организаций, доказавшая свою состоятельность. Де-факто выходит, что реальными «поглотителями» выступают три богатыря российской банковской системы – ВТБ, ВЭБ и Газпромбанк. Впечатление от примера «частной» санации, когда оздоровленный Агентством по страхованию вкладов Русский банк развития купила финансовая корпорация «Открытие» был несколько «смазан» тем, что в собственники самого «Открытия» может войти государственный ВТБ.
Разумеется, было бы наивным обвинять ВТБ в чрезмерных аппетитах: на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Однако некоторые наблюдатели полагают, что происходящая в итоге фактическая национализация значительной части российского банкинга (ее уже окрестили «бархатной») может достичь некоторого «критического значения», после которого впору будет говорить о монополизации этого рынка. Возможно, рано бить в набат, но уже есть над чем задуматься.
«Сам по себе госкапитализм ни плох, ни хорош, — отмечает Корчагин. – Вопрос в том, насколько он будет эффективен в условиях, когда перестанет испытывать конкурентное давление со стороны частных игроков рынка. В любом случае, нудно признать: под воздействием кризиса банковский рынок России кардинально измениться и прежним ему уже не быть».
Маленькие следствия большого кризиса
Среди потенциальных следствий кризиса наблюдатели называют и возможные позитивные воздействия.
«Станет понятно, кто и что собой представляют», — отмечает Федор Наумов из «КапиталЪ».
И это, судя по всему, уже происходит. За последний месяц прозвучало уже несколько сообщений о приостановке деятельности или об изменении ее профиля со стороны ряда финансовых компаний. Объемы увольнений персонала тоже дают представление о положении тех или иных игроков рынка: если сокращения 30% работников некоторыми торговыми сетями восприняты как возможный признак коллапса, то что говорить о компаниях, сокращающих 50-70% сотрудников (именно о таких сокращениях объявили, например, управляющие компании «Максвелл капитал» и «Открытые инвестиции», инвестгруппа «Антанта Пиоглобал»)? Как заметил в интервью «Профилю» один из банкиров, пожелавший остаться неназванным, за этим кризисом очень многие попытаются спрятать собственный непрофессионализм и просчеты в бизнесе». И не только. Буквально на днях один знакомый автора этих строк рассказал, как потерял $15 тыс., вложенные в ОФБУ одного из крупнейших российских банков. Выяснилось, что банк инвестировал львиную долю его средств в бумаги компании, которая объявила дефолт. Пикантность ситуации придает то, что юридический адрес этой компании и самого банка совпадают. В былые времена подобная история вызвала бы публичный скандал, ныне же – «кризис все спишет».
Сколько будет таких, больших и малых «списаний», насколько критичны они окажутся для здоровья отечественных финансов – покажет время.
журнал «Профиль», 24 ноябрь 2008 года
Источник: yanart.ru
Здравствуй, читатель

Широко известна классическая фраза Ильфа и Петрова из телеграммы от Бендера Корейко: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». Даже те литературно продвинутые читатели, которые улавливают ассоциацию с графиней Толстой, обычно воспринимают цитату как анекдотическую.
Ан нет. Её автор, Николай Ефимович Эфрос (1867 – 6 октября 1923, Москва), русский театральный критик, журналист, редактор, сценарист, драматург, кинокритик, переводчик, историк театра, историограф Московского художественного театра, вовсе не шутил.
Лев Толстой после ухода из Ясной Поляны по дороге заболел и 31 октября (по старому стилю) вынужден был остаться на станции Астапово. Вечером, в 19.43, об этом сообщил унтер-офицер Филиппов, и скоро станционный телеграф стучал не переставая. Лавина сообщений шла от родственников, начальства, любопытствующих и журналистов. 3 ноября (ст. ст.) 1910 г. в 15.40 Н.Е. Эфрос отправил телеграфом репортаж для петербургской газеты «Речь»:
«Последняя температура 36 семь; тревожит очень слабая деятельность сердца. Собранным мною близких Толстому сведениям собирался Шамардине пробыть недели две; изменил решение после появления юноши Сергеенко, сына литератора. Толстой заключил, его выслеживают, решил немедленно ехать, скрывая свой след. Шамардина писал жене ласковое письмо. Узнал несколько подробностей покушения графини: не дочитав письма, ошеломлённая бросилась сад пруду; увидавший повар побежал дом сказать: графиня изменившимся лицом бежит пруду. Графиня, добежав мостка, бросилась воду, где прошлом году утонули две девушки. Вытащила Александра, студент Булгаков, лакей Ваня, повар. Сейчас чувствует себя несколько лучше. Едва заговаривает случившемся, особенно ближайших поводах ухода, страшно возбуждается, волнуется, плачет. Сегодня прочитала газетах письмо Черткова, считает указания семейные раздоры ошибочны. Узнал, последний месяц обострились отношения графини Чертковым из-за дневников Толстого, представляющих семь толстых тетрадей. Чертков протестовал, чтобы графиня имела ним доступ. Графиня семьёй живут Астапове вагоне, обедают все вместе вокзале. Маковицкий, Никитин часто сообщают им подробности больном. Эфрос».
Вот как это описала в своей книге «Отец. Жизнь Льва Толстого» его дочь Александра Львовна:
«Моя мать, не спавшая почти всю ночь, проснулась поздно, около 11 часов, и быстрыми шагами вбежала в столовую.
– Где папа? – спросила она меня.
– Я не знаю, – и я подала ей письмо отца.
Она быстро пробежала его глазами, голова её тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами.
«Отъезд мой огорчит тебя, – писал отец, – сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение моё в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста – уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.
Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твоё и моё положение, но не изменит моего решения.
Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всём, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всём том, чем ты могла быть виновата передо мною. Советую тебе примириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлёт мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с неё обещание не говорить этого никому.
Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше».
Но С. А. не дочитала письма. Она бросила его на пол и с криком: «Ушёл, ушёл совсем, прощай, Саша, я утоплюсь», – бросилась бежать.
Я крикнула Булгакову, чтобы он следил за матерью, которая в одном платье выскочила на двор и по парку побежала вниз, по направлению к среднему пруду. Видя, что Булгаков отстаёт, я что есть духу помчалась матери наперерез, но догнать её не могла. Я подбежала к мосткам, где обычно полоскали бельё в тот момент, когда моя мать поскользнулась на скользких досках, упала и скатилась в воду в сторону, где, к счастью, было неглубоко. В следующую секунду я была уже в воде и держала мать за платье. За мной бросился Булгаков, и мы вдвоём подняли её над водой и передали толстому запыхавшемуся Семёну повару и лакею Ване, которые бежали за нами.
В продолжение всего этого дня мы не оставляли матери. Она несколько раз порывалась снова выбегать из дома, угрожала, что выбросится в окно, утопится в колодце на дворе. Сестре Тане и всем братьям я послала телеграммы, извещая их о случившемся и прося немедленно приехать, вызвала врача-психиатра из Тулы. Весь день и всю ночь я не переставая следила за матерью…»
И, кстати, читайте газеты!
Источник: www.vsp.ru
Графиня изменившимся телеграмм кто это
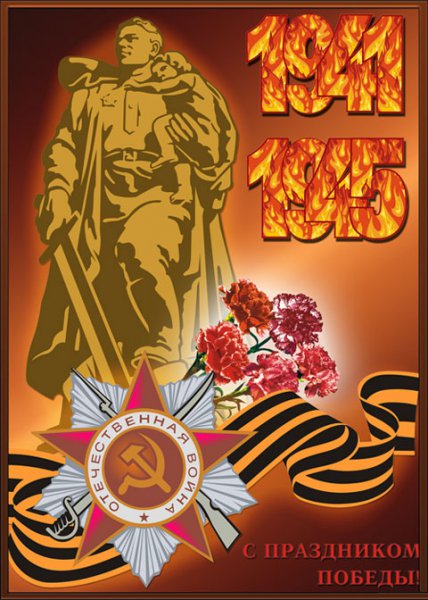

Если пилить тайгу с той же скоростью, с которой пилятся американские военные бюджеты, Россия давно

На предмет корректности заголовка . не уверен, поскольку любая информация о Группе Вагнера в

Доброй ночи, Империя, тут о нас страшное пишут, перейдем сразу к цитате: Москва, возможно,

8 лет с официального начала российской военной операции в Сирии. Что стоит помнить применительно к

«Европейский выбор» стал главной украинской национальной идеей ещё с 1990-х годов. Однако вскоре

Никогда не позволяйте вашим моральным принципам удерживать вас от правильных поступков.
Основание, Айзек Азимов
В комментариях к заметкам несколько раз возникал вопрос, где ЕС и прочие возьмут рубли, чтобы расплачиваться за российские ресурсы. В стриме от 22 марта я это, в общем, говорил, немного разовью.
На самом деле методов получения рублей у ЕС негусто. При нормальных рабочих отношениях страны с валютами второго-третьего эшелона поступают просто – Центробанки делают валютный своп в нужных для торговли объемах. Т.е., скажем, ЦБ России и Индии просто обмениваются соответствующими суммами рублей и рупий. Но в случае с ЕС это уже невозможно – ЕС по сути объявил дефолт по своей валюте и с нашей точки зрения цена евро равна нулю.
Соответственно остались преимущественно «натуральные» методы:
1. Торговля. Страны ЕС продают в Россию товары за рубли (например: доставка с allegro). Проблема в том, что у нас и раньше с Европой было серьезное положительное сальдо в торговле, а сейчас товарный поток из ЕС в разы усохнет. Часть товарных позиций ЕС закрывает на уровне политических решений. Другие позиции европейские компании сами ограничивают от страха или из комсомольской сознательности. Приличную номенклатуру закроет уже Россия на политическом уровне. По многим позиция наши компаний переориентируется от греха подальше на поставщиков из других стран. Ну и ширпотреб сильно усохнет. Вот и приплыли – купить ресурсов надо на 20 триллионов рублей в год, а продать получится только на 2 триллиона.
2. Двойной обмен. Европейские компании могут купить на бирже другие валюты за евро – юань, рупию и пр., а потом обменять их на рубли. Проблема в том, что в том же Китае или Индии такое количество евро даром не надо, да и реноме евро сильно покосилось после де-факто дефолта перед Россией. Так что вряд ли вообще получится купить нужные объемы, а что получится купить окажет сильное давление на курс евро. Распродажа, знаете ли. Ну и потери на двойном обмене. Там 2%, там 2% — так и без штанов остаться можно.
3. Ликвидация. Распродажа всех российских активов – акций, государственных и коммерческих облигаций, стратегических долей в компаниях, собственных производств, недвижимости и пр., российским же покупателям за рубли. Вполне реальный вариант, хотя цена будет во многих случая бросовая. Но в целом суммы на этом можно поднять приличные. Другое дело, какой резон продавать российские активы той компании или банку, которым самим никакие наши ресурсы не нужны и, соответственно, и рубли им никуда не уперлись?
4. Ломбард. Самое простое технически, почти невозможное политически. Т.е. тот же финт, что после войны сделали США. Европейские ЦБ физически перевозят в РФ часть своего золотого запаса в залог и получают соответствующую сумму в рублях. Захотят – могут выкупить золото обратно. Проблема в том, что даже при готовности работать по этой схеме золота у большинства стран не хватит даже на год.
5. Колонизация. Долго и требует, по сути, капитуляции ЕС. Продажа России блокирующих или контрольных пакетов в стратегических, в первую очередь в технологических, а также инфраструктурных компаниях (сети АЗС, порты и пр.), которые представляют для нас интерес. Вот тут рублей можно поднять практически на любую сумму. Другое дело, что это фактически манифест о переходе Европы под контроль России.
Есть еще разные хитрые схемы, но это уже совсем мелочь. В общем, чтобы нарыть нужное количество рублей европейцам придется не только побегать, но и попрыгать, и поотжиматься, и где-то даже и поползать. С другой стороны, физические упражнения и лечебное голодание пойдут стареющему организму на пользу.
Источник: politinform.su